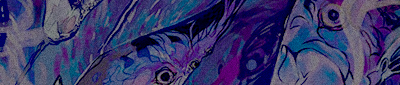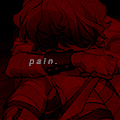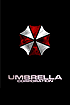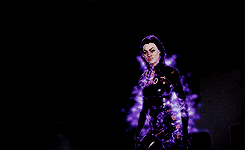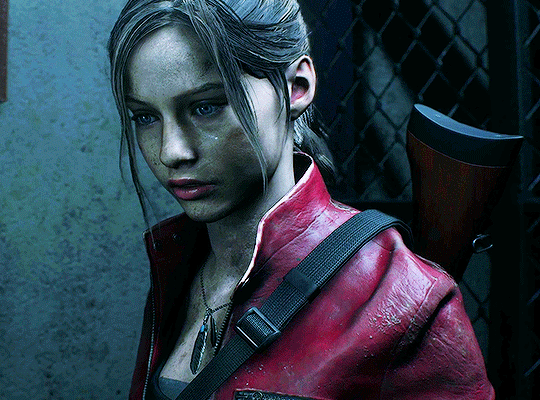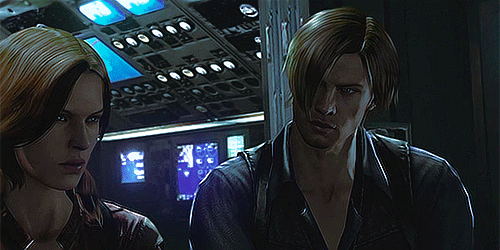Это история о чести, возложенной на постамент лжи, о праведности, поправшей чуждую нам волю. О вере, клеймённой мечом и кровью неверных.
О рыцаре, забывшем дорогу в отчий дом; так слушайте.
Ещё юнцом я был слеп и шёл дорогой неверных — сын рыцаря, рождённый в нескончаемых походах. Этих бесконечных глумливых завоеваниях, где каждый трофей напитан чьим-то ужасом и кровоточащей болью — да, хвала Господу, я всё ещё помню лицо своей матери. Запах её нежных рук, голос, что станет мне напутствием и символом истинной любви... какой она была? Ни лица, ни имени уже не вспомнить — их стёрли, вырвали из меня будто солому, которую сожгли той же удушающей ночью... клеймя её род ересью, сжигая наш дом будто старых прохудившийся хлев. Не оставив ничего, кроме пепла и молчаливой горечи... с гордостью, с крепкой ладонью и величавым взглядом сквозь прорезь железного шлема. Палач и отец в одном лице: разорвавший мою жизнь, называющим чуждым прежде именем. Именем Святого, именем божьего сына... так кто же я? Трус, кто бросил в смерти собственную мать, кто посмел, кто позволил жить убийце... или бастард, кому повезло родиться первым? Кто сойдёт за наследника, пускай и от ведьмы зелёной крови — я закрываю глаза, я вспоминаю пожар её волос.
Кудри, падающие на лицо плачущего ребёнка, пробиваются сквозь ложь словно лучи полуденного солнца.
Пусть и на краткий миг, я вновь чувствую себя другим... первое нетвёрдое слово, первая молитва в честь урожая, вкус первого хлеба, да славится богиня Дану... эти воспоминания отняты, стёрты во мне грубой сталью и подвешенным крестом.
Верой истинной, что светом сочится из каменных церквей.
Мы прокляты единым богом; дети этих земель в страхе, в вечных гонениях... мой конь ведёт их под свист плетей и гулких насмешек. Истощённых, почти безумных людей дуба и каменных кругов... их тела изувечены, пламя волос пропитано кровью, а глаза пусты, почти слепы. С каждым днём соблазн покориться захватчикам всё больше, а тело? Будто увядшее трухлявое дерево — позабывшее вкус прохладной воды, вкус согревающего солнца...
Этого ли ты хотела, матушка?
Учиться на примере великих, нести то бремя, что ОН зовёт доблестью — этот паладин в окровавленных доспехах. Этот озёрный убийца и милостивый отец, прячущий своё лицо под толщей литого металла.
В тех смутных греховных кошмарах, я всё ещё слышу его слова.
Сын мой, они познают огонь.
Этот когда-то бескрайний зелёный край — теперь здесь кладбище дубов и карбункул сорванных лиц, свет здесь холоден и скуп, а птиц, что слетаются на поле брани, с каждым днём всё больше — клёкот костров и карканье ворон звучат со всех сторон в Стране забытых фей. Нет, нельзя мне об этом: уповать на судьбу, когда наш край тлеет, гниёт изнутри будто трупное чрево... моей рукой, моим роковым бездействием. Знай что я, матушка — не лучше; во мне та же кровь, та же отцовская ярость — я держу в руках их калёный меч и радуюсь в круге стола с другими воинами. Пленённый сталью мы так походим друг на друга — статные, с крестом на груди и голодным львом в сердце, мы бредём в ночь лесов, нас почти четыре десятка. Палачи и губители, назвавшие себя Праведниками — наши мечи облиты вином и святым маслом, наши факелы горят ярче чем падающие звёзды: в стране грёз, мы сбились с пути чести и стали голодными до славы охотниками.
Грешниками, бросившие вызов самому королю фей.
Мой отец безумен; с самого детства он слыл тираном, а с годами... он поднимает штандарт своего рода, он кличет всех кельтских чудовищ и призывает их на дуэль. Его голос звенит от предвзятости, а доблесть и честь — что ему до них? Всё это лишь блажь пред святостью цели — искоренить лесных демонов, стереть их с лица земли обетованной. Ведь таков путь завоевателя, пересёкшего ледяные воды ради надежды и лучшей жизни? Найди крова и тепла, плодородных земель и вдоволь запасов, чтобы пить и вспоминать о своих бравых подвигах... не ради ли этого мы губим столько жизней? В этом чуждом месте, где волшба и забытые языки леса ещё помнили своих первых королей; где племя Дану вскормило поля и пировало каждую ночь плотью и кровью двух бессмертных быков... нет, бесполезно, мне не вспомнить. Только ворох старых, почти позабытых историй... сквозь имена богов и ушедших воинов, великих творцов и окрылённых фей... имя ему Оберон, и он отвечает на вызов.
Это бой не знает чести... зелёный рыцарь без страха шагает вперёд. Он молод лицом, но в глазах — вся мудрость древнего леса. Своей алчностью и беззаконием, мы призвали его на бой за каждую каплю невинной крови. Пролитой в жестокости, в тщеславий и тени собственных имён... я вижу, что он смел и гибок, словно молодое древо, а вера его сверкает сродни чистейшему золоту. Мой отец поднимает раскалённых меч — этот бой отвращает, пропитывает тебя, грязного, злобой и невежеством... этому ли меня учили? Чего достоин рыцарь, с честью вступивший в неравный бой? Нас много больше, а рыцарь леса один — со вскинутым мечом и каменным кинжалом. Бьющийся от сердца, сражающийся за что-то кроме своего имени... с гневным рыком мой отец бросается в бой. Без раздумий, без сожалений... первая кровь прольётся росой, и десятки ртов забьются в глумливом смехе. Мои братья по оружию, все, кроме меня — не в силах смотреть, я отвожу глаза. Сквозь крики и лязг мечей, отдавая свою честь в когтистые лапы трусости... кривясь в отвращении пока мой отец полосует невинного. Так чем же я отличаюсь от них? Рыцарь фей падает от удара, но тут же атакует вновь... битва сродни танцу, и мой отец чувствует первую слабость. Предательскую, свою собственную — с ужасом осознавая силу этого существа, его власть и единство с природой... будто сам лес защищает его соперника, мешая ветвями или путаясь травой под самые ноги. Но так ли это важно, когда твой меч не помнит слов чести? Лишь пустоты безумств, брошенных в отчаяние... удар за ударом, выжигая клинком память и грешную душу. Мой отец отступает — рыцарь фей ловок, а клинок его — сама жгучая праведность. Сия чистым костром среди жалких искр алчности, я понимаю одно... следующим ударом воин листа и древа пронзит сердце моего отца.
И видят все боги, о том мечтал старый лес, и годами, матушка, молил наш сломленный народ. Мысль о его гибели грела сотни сердец, латала ниткой надорванные души, окутывала как озёрный ветерок, лёгкий и почти незримый... в тот день тиран, кто прозван Благородным, должен был пасть, и кровь его стала бы платой за боль и чужие страдания.
Нет.
Я был молод и твёрд в убеждениях; глуп, ведь в братстве я видел родных, пусть и не в крови — отец, кто слыл Величайшим, был мне опорой и смыслом всей жизни. Примером, на который я, ещё оруженосец, должен ровняться. Пусть я не ведал всей правды... той страшной картины предательства и смерти собственной матери. Пусть я был слеп, сражаясь подле святого убийцы... Ланселот, сильнейший из рыцарей, вот-вот окончит свой путь — моя рука сжимает рукоять меча, моё тело словно тетива, звенящая от напряжения.
Кем, матушка, был бы я, предав отца перед лицом смерти? Трусом и зверем, кто вырос и вероломно оставил собственный народ? Пусть так — я готов слыть чудовищем. Кем угодно, но не пустым трусом — сквозь ложь и слёзы, наворачивающиеся на глаза.
Я взываю к Богу, я молю его простить меня.
Ведь нет для человека греха страшнее ереси, как нет для рыцаря хуже меча, обнажённого вне дуэли. И страшным эхом звучит тот удар... сквозь рык зелёного воина или, о ужас, мой собственный? Сквозь холод стали я чувствую жар чужой крови — он отзывается во мне оглушающим сердцебиением. Безумием в глазах, в окровавленном лице... шлеме, брошенным под ноги врага. Пронзённый насквозь, Оберон, король фей, падёт под мои ноги — победный крик воинов смешивается с предсмертным хрипом. Неужто сам Бог защитил меня от тёмных чар зелёного народа? Кельтского бога, брошенного людьми... одинокого и всеми позабытого, умирающего у моих ног с предсмертным проклятьем.
Матушка, я не знал, что наделал.
Его бледные губы шепчет, и, о ужас, я его понимаю: бравись, дитя ведьмы, дитя предательства и пролитой крови, купайся в любви озёрной и славе на истоптанной могиле, живи в подвигах, странствуй долго... но помни. Не забыть твоего лица каждому, не принять отказала лишь раз узревшему, не жить и той, чьё сердце будет украдено.
И после слов этих, воин умер, с лицом печальным, но умиротворённым.
Что это значило? Чары, наложенные в смерти, нередко мучили убийцу — словно чёрный закон, скреплённый чей-то пролитой кровью, проклятье жило годами, терзало душу, но смысл его оставался непостигаем. Вот и теперь, в подлости своей, в кощунственном убийстве я предстал пред загадкой — должно быть, павший послал смерть всем моим братьям.
Меч в моих руках дрожит, нетвёрдо стою я посреди туманного леса — капли крови, что слёзы, стекающие с острия; крики воинов громогласны, а рука на плечо ложится так крепко.
Сын мой, я горд тобой.
Так вот что значит радость?
В этот миг совершенной ясности, когда голоса моих братьев, моего отца с честью поздравляют меня — их крики разносит ветер, вбирает влажная земля, словно в страхе смолкли и птицы — я не слышу ночного уханья сов, умолк даже вой, и тот где-то вдали. Лес горестно оплакивал потерю, а я был тем самым убийцей — но разве мог я знать? Подумать, что, быть может, мой истинный мир пошатнулся — треснула воля, угас жар кострищ, что вчера ещё пылал слепой доблестной верой. Страх горестный, богопротивный, коснулся меня — но душа ещё пытала прежней силой. С того дня я стал Доблестным, и путь рыцарства открыл мне свои двери. Король избрал меня праведным, достойным святейшей из целей — за одним столом мы воссели ради мира и величия рыцарских поисков. Чаши Божьей, Святейшего Грааля — никто из нас не знал всей правды, но свято верил. И превыше всего на свете мы были одарены целью.
Не вспоминать о той боли, о всех смертях, нет, нельзя.
Вкусив лишь глоток из чаши, я мог избавиться от всех ужасов прожитой жизни.
Вернуть тебя, матушка и одолеть саму горечь наложенного проклятья.
Навсегда позабыть боль... моя жена сошла с ума от ревности. Наложила на себя руки прямо на моих глазах — не в силах выносить сладости голоса, которым я отвечал служанке. Не в силах жить, зная, что мои глаза смотрят на кого-то, кроме неё.
Как мёртвый король и предрекал, моё проклятье оказалось страшнее подлинной смерти.
Доблестный, позабывший тепло истинной любви.
Святой, изувеченный греховными миазмами смерти.
Что-то во мне понимает, что это правда. Что ревность и злоба теперь в отражении моего лица — горестного, печального или одинокого? Как сладкий удушливый яд, губящий людей одним неосторожным касанием... знайте, что каждый, кто смотрел в мои глаза что-то терял. Мечту, сон или даже любовь — ради меня женщины бросали мужей, ради меня забывали собственных детей и бросались под копыта... на помосте палача сумасшедшие признавались мне в вечной любви. Шептали, звали с собой на ту сторону пока я вёл каждого из них на эшафот... и будь я дважды проклят, если бы не думал о смерти.
Как избежать дальнейшего безумства? Как спасти тех, кто всё ещё не видел моего сокрытого под шлемом лица? Прости меня, матушка, но я знал лишь один единственный способ. Вслед за моей женой я был готов наложить на себя руки.
Да!
Я покончу с собой — и буду свободен. От обязательств перед тираном, моим отцом и жестоким убийцей, от ложного имени и ранга, которого не достоин... от мук совести о людях, которые страдают по моей вине. Порой в собственной кровати я смотрю на рукоять кинжала...о горе, я вглядываюсь с высоты крепостной стены, и земля, та что ныне смерть, зовёт меня в свои грязные объятия. Как часто я хотел этой смерти... как долго я боролся с тем что, быть может, ещё можно что-то исправить.
И, закрывая глаза, матушка, я вижу твои руки — нет, я не смогу уйти, не обрести мне покоя... я не увижу тебя пока не искуплю собственного греха. Бежать от рока нельзя, нельзя и смириться — пускай... я всматриваюсь в отражение собственного лица, я вновь, в который раз? прячу себя под кованной сталью. А если не бежать — значит пойду навстречу.
В стенах замка я призвал к ответу служанку Морганы.
Она прячется в самой высокой башне из белого камня, слухи молвят, что где-то там и кипит её женское таинство... сам король, грубый на глас, пред ней молчит, будто в размерах скукоживается. Быть может не власть, но мудрость её поможет сломить данное слово... проклятье, посланное самим королём фей.
Я бреду, и лестница в башню петляет, запугивает, то тут, то там в размерах меняется... сквозь собственный вздох я слышу затихающее женские пение. Значит ли это, что прав? Что злобу предсмертную можно исправить? Исказить, быть верно, направить в иное русло? А там и проклятье сгинет: три кратких удара, стучу решительно в дубовую дверь, а сам? Взываю в сердце: матушка, укрепи меня. Ведь каких только слухов в Камелоте не бродит.
Пришло время отбросить капюшон и представиться.
— Я Галахад Доблестный, сын Ланселота Озёрного. Пришёл за советом к Моргане Пендрагон, прозванной Феей-Спасительницей.