:: ( весь мир горит // вдыхаю дым минувших дней ) ::
× × ×
[indent] к горькому привкусу разочарования, что аккурат на корне языка оседает — к нему привыкнуть, оказывается, намного проще, чем может казаться изначально ; не хочется думать о том, что это самое разочарование — оно спутником нетленным постоянно за ним по пятам ходит, не позволяя познавать какие-то иные углы или грани мирского существования, будто конечным бременем заведомо у него петлей на шее виснет, запретом или клеймом от горячего расплавленного железа, что кожу жжет до исступления и стертых в крошку зубов — челюсти стоит хотя бы иногда разжимать, а не пытаться собственные зубы на прочность проверять, — но все это не больше, чем вздор глуповатый, какой мыслями размытыми в голове из полушария в полушарие мигрирует, не позволяя здраво зацепиться за хотя бы какой-то конкретный мыслительный процесс ; он в этой жизни успевает разочароваться ровно до той степени, чтобы без зазрения совести мочь насмехаться над ней — над собой, коль так подумать, в первую очередь, потому что абсолютной бесполезностью влечет свое жалкое подобие жизни, только изредка пытаясь претендовать на мысли возвышенные, будто право имеет действительно думать в подобном русле, — и даже не пытаться несмело надеяться хотя бы на какие-то изменения, кои все равно никогда с ним не произойдут. когда-то случившиеся метаморфозы, дикие в своей отвратительности, они привносят в его жизнь и по сей день смуту: она умудряется изнутри сжирать все живое [ что сухим остатком отпечаталось на стенках души, как рисунок наскальный, служа пятном воспоминаний о когда-то хороших днях и о самом себе ], она выпивает до капли последней желание жить и заменяет собой ту жажду, что в тошноту перманентную превращается ; «а коли и так — глуп ли я? сошел ли с ума окончательно? потому что не хочу в жизни более смысла искать, потому что слабостям собственным позволяю управлять своим сознанием, более не думаю рассудком, а только чувствами — и когда такое было-то, а? действительно, глупым стал до невозможности. глупым и склочным — про характер скверный другие отзываются часто, но есть ли мне правда дело до того, что всякие идиоты говорят, когда помыслам своими я куда дальше :: выше их всех? то-то же…» — раскольников сам себе мысленно улыбается, хотя в образности эта улыбка оскал исконный напоминает, что в зеркало посмотри — трещинами бы поверхность взялась от того ядовитого самодовольства, кое за пределами грудной клетки ухищренно скрывается, притворяясь тихой гаванью задумчивости. «должно быть наплевать — это факт, а я все равно трачу время на всех этих идиотов бесполезных, которые смысла никакого не имеют: ни для меня, ни для жизни моей ; и никто не задумывается о том, что мысли его — это самое сильное орудие действия, но орудием этим не пользуются, а я воспользоваться должен. должен суметь сохранить трезвость ума, дабы большего добиться, но каким способом? какой ценой? чем-то пожертвовать должен — а чем конкретно? коль нет у меня ничего, то, стало быть, и жертвовать тоже нечем? тогда ничего и получить не смогу. порочный и замкнутый круг слепой бедности, что изо дня в день за мной волочится бременем невыносимым, от которого устать уже невозможно, оно-то приелось, даже слишком…», — он лихорадочно размышляет о чем-то максимально неподходящем в тот момент, когда сосредоточенность на ином быть должна, а в нем только сомнительный раздрай, наталкивающий на мысли апатичный, с легким оттенком депрессивности.
[indent] ветер прохладный пробирает до самых костей — умудряется под ткань тонкую пробраться и вдоль кожи пройтись тем самым неприятным холодом, от коего после в тепле будет знобить еще какое-то время, — но и в чувство вместе с тем приводит, призывая моргнуть несколько раз, чтобы опомниться окончательно и себя найти в этих запутанных чувствах ; родион всеми силами старается не погружаться в собственные состояния, хотя прекрасно понимает, что от демонов внутренних никуда не сбежать — они преследуют его повсеместно, не умолкают никогда, продолжая знакомыми голосом [ собственным ] нашептывать столько вещей невозможных, что пробуждают сотни мурашек и страх липкий, такой плотный, что в легких впоследствии оседает терпким привкусом разочарования и утерянных надежд, ибо все никак смелости не хватает даже самому себе в том признаться, что одних лишь мыслей о каком-либо господстве или даже желании власть в руках у себя заиметь — этого всего мало, а у него робости и несмелости куда больше, кои канут в лету лишь в моменты вспыльчивости, да и после в секунду каждое решение может обратным стать, потому что думается ему внезапно, что все напрасно, что ничего смысла никакого не имеет совершенно ; ему кажется, что все это — зря, поэтому не стоило совершенно увязываться за ней, только бы лишний раз не отягощать собственной компанией и собственным присутствием, ведь им двоим порознь было бы намного лучше, но все происходит диаметрально противоположным образом — она прикасается к нему, обращая все его внимание на себя, вынуждая вопрос невысказанный во взгляде мутном проскользнуть, а после испариться тотчас. родион себя знает, оттого и знает, что отмахнулся бы от всех, кто хотя бы каким-то маломальским образом захотел бы к нему прикоснуться — в нем тактильности и нежности, словно в каком-то кактусе ; чужие прикосновения еще давно начали восприниматься чем-то неприятным, чем-то таким, что влечет за собой необходимость эмоционально раскрываться — то ли всем так сильно хочется вызвать внутри него желание вывернуть собственную душу наизнанку, то ли у него мнительность уже зашкаливает. дурак, — и у него нет готовности для таких чрезмерных откровений, но с ней все почему-то разительно меняется. он смотрит на нее внимательно — и соня совершенно не смотрит на него, предпочитая сыскать точку фокусировки для собственного взгляда на чем-нибудь, но только не на нем. умно. она не видит — он кривит губы в улыбке [ не оскал, но откровенная насмешка судьбы ], ведомый теми мыслями о том, что она, вероятно, внутри себя сопоставляет все существующие доводы, только бы мочь совершить что-то подобное. «ты настолько презираешь меня, что делаешь это из жалости? или, быть может, во что я верю крайне мало — искренний порыв, кой в тебе живет, подпитываемый теми самыми чувствами светлыми, что к богу молчаливому и несправедливому, но почему-то милостивому тянутся извечно? нет, ты не жестока, ты не должна делать этого из жалости, но почему тогда ты печешься о тех детях, что тебе родной кровью и не являются? почему последние кровные гроши отдаешь отцу-алкоголику, коему путь заказан уже в один конец? ты милостива? или ты жестока, потому что своими благими намерениями каждый раз отмеряешь им жизнь, что страданиями наполнена? а теперь и меня отравляешь — зачем надежду какую-то даешь? почему не прогонишь? почему ты пытаешься быть у д о б н о й, к чему правильность в мире этом неправильном и прогнившем, доколе все станут вытирать ноги о доброту твою, пока не растопчут сердце маленькое. ты же не глупа, соня, но откуда эта дурость в твоей голове, вложенная туда мотивами божественными? искоренить бы все это. искоренить! другой человек не свободен, потому что его обстоятельства сковывают, а ты на себя посмотри — ты ведь для себя жить можешь! глупая-глупая-глупая!», — родион слегка сжимает ее пальцы, только в моменте понимая, что причиняет боль и себе самому, когда зубы давятся друг о дружку так сильно, что вот-вот и сотрутся в крошку от напряжения внутреннего. хватку на ее пальцах тонких он разжимает, взглядом пустым поглядывая на беспокойную воду невы, кою ветер колышет, продолжая и его тревожить холодом извечным да мурашками по коже, какие на затылке оседают в конечном итоге, теряясь в отросших порядком волосах.
[indent] до них никому дела нет, а раскольникову нет дела до остальных — это правильное течение жизни, потому что многим людям абсолютно наплевать на тех, кто на улице встречается в первый и в последний раз ; он смотрит на соню — соня не смотрит на него, продолжая молчаливой тенью идти рядом, понурив голову и, скорее всего, полностью погрузившись в какие-то собственные размышления. ему бы хотелось знать, о чем она думает, что ее беспокоит больше всего. помочь он ей вряд ли может — не финансово, не как-то существенно, — а все что у него есть, так даже не сердце или душа чистая, ибо они заражены самомнением завышенным [ свою беду знать важно и нужно ], но любопытство небезразличное, возникшее из-за глупой, тривиальной привязанности человека к человеку ; ему бы подавить это чувство нерадивое, не испытывать более, но в бедности и скудности своих эмоций родион прекрасно понимает, что станет еще беднее — не сущность материальной, но куда более весомой, — если отречется от этого чувства внутри себя, какое может физически ощутить, держа тонкие женские пальцы в своей ладони, забирая капли тепла своей кожей, пока они идут вместе, иногда соприкасаясь плечами от близости случайных столкновений.
[indent] его не должно быть здесь и сейчас.
[indent] их не должно быть в этой точке.
они не должны держаться за руки.
[indent] она не должна произносить эти слова, почти вынуждая родиона заскулить от бессилия и невозможности сопротивляться перед ней ; отказаться — это первостепенная необходимость, но стоит лишь на долю секунду уловить взгляд чужой, как несуществующие постулаты падают ниц, разрушаются вавилонскими башнями, поэтому вместо твердого согласия существует лишь кивок краткий, а после — череда сомнений и попыток уйти прямо сейчас. каждая новая ступень служит ступенью на эшафот своих же убеждений, ибо не должно его быть здесь, но соня продолжает своими пальцами его сжимать — не отпускает, ведет за собой, обращает в ведомого, словно апостола какого-то, что даже смехотворно, — и ведет его в свою квартиру [ гефсиманский сад, что должен иисусу подарить умиротворение и единение с самим собой, но ( р о д и о н ) иисус оглядывается назад, на оставленных позади ( н а м е р е н и я ) остальных апостолов, отчего душу его тотчас скорбь наполняет, а ужас и тоска страшная — под кожу свинцом раскаленным заливаются ; иисус не скрывает своих душевных мук, потому что в глазах карих оседает боязнь перешагнуть даже порог, оказаться в том месте, куда попасть хотелось еще какое-то время назад ].
[indent] соня отпускает его руку — родион выдыхает облегченно, — и немного временит с тем, чтобы податься следом за ней. она скрывается в пределах своей квартиры, а он хватается за плащ и снимает тот с вешалки тихо-тихо, уже разворачиваясь лицом к двери. б е ж а т ь! пальцы обхватывают ручку, почти взаимодействуют с механизмом, но в последний момент расколькников все же приходит в чувство, прекрасно понимая, что поступает, как последний идиот, ведя себя подобным образом. даже не попрощавшись. ладонью свободной по лицу, ударом по лбу — несколько раз, чтобы довольно больно, чтобы пожалеть о своих трусливых помыслах, — плащ обратно на крючок, кеды — в сторону к ее туфлям, только более небрежно, почти наплевательски ; застиранными черными носками собирать грязь на полу — это не босиком ходить по промозглому полу в собственной комнате, а по пути он расстегивает змейку кофты слегка, ибо от холода в жар тотчас бросает. соня обнаруживается на кухне, но в пределах своей же крепости она выглядит донельзя скованно и так, словно его присутствие на нее воздействует образом самым негативным — родион пугает ее? заставляет чувствовать себя неловко? «ты так стараешься, хлопочешь, словно хочешь произвести хорошее впечатление, но соня — софья — ты уже самый светлый и честный человек, которого я знаю. к чему все это? к чему попытка казаться лучше? это в тебе желание душу свою спасти говорит? или намерения твои не корыстны, ведь каждый верующий — он по сути своей тот еще льстец жизни, старающийся жить так, чтобы потом пустили в место получше; жить правильно, чтобы после смерти оказаться где-то, где хорошо, а поступать не из соображений своих же верований, а из того, что хочется хорошего. ты относишься к ним, сонечка?».
[indent] — все в порядке, — вряд ли родион внезапно станет притязательным до невозможного, поэтому он тянет руки к предложенным угощениям, но замирает так, продолжая всматриваться в одну точку. помыть руки. с места он подрывается резко и нервно-дергано, отчего стул скрипит, пока тот подходит к мойке и там наскоро отмывает собственные пальцы от незримой грязи, вытирая влагу о темные штаны. он закрывает кран, выключая поток крови. — спасибо, — простая благодарность в том, чтобы воплотить в жизнь задуманное изначально и намазать хлеб маслом, а сверху кинуть ломтик хлеба ; желудок ему скручивает от голода — только сейчас приходит осознание того, насколько он вообще голоден, — и в голове сплошная установка о том, что нельзя бросаться на еду, будто дикарь. моветон, а родион бросается, не давится, но ест достаточно быстро, пытаясь насытить рецепторы вкусовыми воспоминаниями, чтобы хоть как-то протянуть последующие сутки или полтора. чай без сахара — терпкий, насыщенный, — и после первых двух глотков глаза он поворачивает в сторону окна, моментально подавившись от испуга. по стеклу барабанит дождь. кровавый дождь. он откладывает недоеденный кусок хлеба, но чашку продолжает держать на весу, неотрывно глядя на капли бурые, стекающие по ту сторону. [ и столько у иисуса ран было, а он не сотворил ничего достойного этих самых ран — они продолжают кровоточить, заливая реки и все живое, словно в назидание всем виновным: каждого ждет наказание еще хуже, чем невиновного ] ; раскольников отворачивается от окна, глазами удивленными смотря куда-то перед собой, а после набредает взглядом на соню. — там дождь идет. кажется, — улыбка слабая пробивается на потрескавшихся губах, и он делает еще один глоток чая.
[indent] никакого дождя нет.
[indent] — ты приходи ко мне, конечно, потому что я не против, там все только от твоего лишь желания зависит и все, — возможность разговаривать твердо возвращается вместе с тем, когда отступает задумчивость, а родион откидывается на спинку стула, доедая единственный кусок хлеба. за новым не тянется. — просто я думаю о том, что…ты бы вполне смогла поступить на бюджет, если бы набрала нужное количество баллов. в нашей стране образование, — дождь барабанит. он головой ведет раздраженно. — …оно небылица-то по факту, понимаешь? ну, абсолютно бесполезное, потому что любой дурак может деньги из ничего заработать, — вперед подается, словно загорается своей же мыслью, какую раскрутить пытается, посему и локтями о край стола упирается, а ладонь к уху со стороны окна прикладывает, сжимая пальцы в кулак от внутреннего напряжения. — а вот все равно требуют бумажку эту. но две бумажки лучше — неполное высшее и просто высшее. как же может быть неполное, когда ты столько лет своей жизни отдаешь? за что? вот и я не понимаю, — глаза рукавом кофты раскольников утирает, силясь не задать вопрос какой-то, какой ее может оскорбить и задеть за живое, поэтому так и сидит, вперившись взглядом мутным в лицо светлое, ладонью закрывая себе рот.
[indent] надо было уйти.
[icon]https://i.imgur.com/gpZC2yh.png[/icon][sign] [/sign]

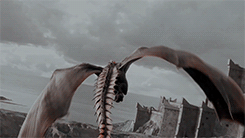


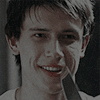



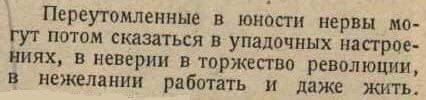

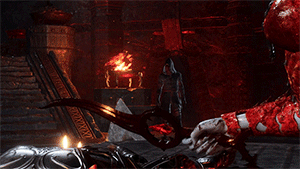




























 А еще мне очень не хватает ваших дружеских перебранок с Санджи! :С Смотри, обставит он тебя в словесных перепалках, пока ты опять где-то не там бегаешь!
А еще мне очень не хватает ваших дружеских перебранок с Санджи! :С Смотри, обставит он тебя в словесных перепалках, пока ты опять где-то не там бегаешь!



